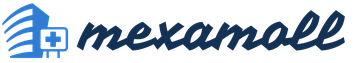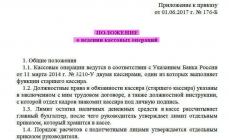Наше великое духовное достояние, наша национальная гордость. Но многих поэтов и писателей забыли, их не печатали, о них не говорили. Однажды случайно обмолвилась по чисто литературному поводу: «Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность - ». Жила она сложно и трудно, не знала и не искала ни покоя, ни благоденствия, всегда была в полной неустроенности.
В 1910 году, еще не сняв гимназической формы, тайком от семьи, она выпускает довольно объемный сборник «Вечерний альбом». Его заметили и одобрили такие влиятельные и взыскательные критики, как В. Брюсов, Н.Гумилев, М.Волошин, Стихи юной Цветаевой были еще очень незрелые, но подкупали своей талантливостью, известным своеобразием и непосредственностью. В этом альбоме Цветаева облекает свои переживания в лирические стихотворения о несостоявшейся любви, о невозвратности минувшего и о верности любящей:
Ты все мне поведал - так рано!
Я все разглядела - так поздно!
В сердцах наших вечная рана,
В глазах молчаливый вопрос…
Марина очень сильно любила город, в котором родилась, Москве она посвятила много стихов:
Царю Петру, и Вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари: колокола.
Пока они гремят из синевы
Неоспоримо первенство Москвы.
И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
Марина Цветаева пишет не только стихи, но и прозу. Проза Цветаевой тесно связана с ее поэзией. В ней, как и в стихах, важен был факт, не только смысл, но и звучание, ритмика, гармония частей. Она писала: «Проза поэта - другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия - не фраза, а слово, и даже часто - мое». Одна из ее прозаических работ посвящена Пушкину. В ней Марина пишет, как она впервые познакомилась с Пушкиным и что о нем узнала сначала. Она пишет, что Пушкин был ее первым поэтом, и первого поэта убили. Она рассуждает о его персонажах. Пушкин «заразил» Цветаеву словом «любовь». Этому великому поэту она также посвятила множество стихов:
Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен
Пушкин в роли монумента?
Гостя каменного?..
Вскоре свершилась Октябрьская революция, которую Марина Цветаева не приняла и не поняла. С ней произошло поистине роковое происшествие. В мае 1922 года Цветаева со своей дочерью уезжает за границу к мужу, который был белым офицером. Берлин, Прага, Париж… В ее стихах зазвучали совсем иные ноты:
Береги могил:
Голодней блудниц!
Мертвый был и сгнил:
Береги гробниц!
От вчерашних правд
В доме - смрад и хлам.
Даже самый прах
Подари ветрам!
Вокруг Цветаевой все теснее смыкалась глухая стена одиночества. Ей некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться. «Родина не есть условность территории, а принадлежность памяти и крови, - писала она. - Не быть в России, забыть Россию - может бояться только тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри - тот теряет ее лишь вместе с жизнью». Тоска по России сказывается в таких лирических стихотворениях, как «Рассвет на рельсах», «Лучина», «Русской ржи от меня поклон», «О неподатливый …», сплетается с думой о новой Ррдине, которую еще не видел и не знает:
Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.
Из сырости - и свай,
Из сырости - и серости.
Покамест день не встал
И не вмешался стрелочник.
Постепенно Цветаева отдаляется от кругов эмигрантов, зреет нелегкое решение:
Ни к городу и ни к селу
Езжай, мой сын, в свою страну,
В край - всем краям наоборот!
Куда назад идти вперед
Идти, особенно тебе…
Личная поэтессы переплеталась с трагедией века. Она увидела звериный оскал фашизма и успела проклясть его. Последнее, что Цветаева написала в эмиграции, - цикл гневных антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую она нежно и преданно любила. Это поистине «плач гнева и любви», Цветаева теряла уже надежду - спасительную веру в жизнь. Эти стихи ее - как крик живой, но истерзанной души:
Отказываюсь быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь жить.
С волками площадей
Отказываюсь выть.
На этой ноте последнего отчаяния оборвалось Цветаевой. Дальше осталось просто человеческое существование. И того в обрез. В 1939 году Цветаева восстанавливает свое советское гражданство и возвращается на родину. Она мечтала вернуться в Россию «желанным и жданным гостем». Но так не получилось: муж и дочь подверглись необоснованным репрессиям. Грянула . Превратности эвакуации забросили Цветаеву сначала в Чистополь, а затем в Елабугу. Измученная, потерявшая веру, 31 августа 1941 года Марина Ивановна Цветаева покончила жизнь самоубийством. Могила ее затерялась.
Марину Цветаеву-поэта не спутаешь ни с кем другим. Ее стихи можно безошибочно узнать - по особому распеву, ритмам, интонации. Марина Цветаева - большой поэт, и вклад ее в культуру русского стиха XX века значительный.
Нужна шпаргалка? . Литературные сочинения!(339 слов) Поэзия – это удивительное сочетание букв, которое способно вдохновлять нас. Многие поэты покоряют наши сердца прекрасными стихотворениями, но, как часто бывает, каждый из нас предпочтет одного художника другому. И я так же отвожу место пьедестала для одного поэта, давно закравшегося мне в душу. Я однозначно могу выделить Марину Цветаеву и назвать ее своим любимым поэтом.
Серебряный век одарил нас восхитительными стихотворениями, а творения Цветаевой для меня каждый раз встают на первое место. Любовь к этому поэту началась со стихотворения «Книги в красном переплете». Это произведение так и пахнет детством, а запах той чудной поры у автора ассоциируется с книгами. Читатель узнает в Цветаевой юную любознательную девочку, которая перед сном переживала за героев Марка Твена. Любовь к чтению возросла в настоящий талант, и теперь, пробегаясь по строкам этого стихотворения, мы понимаем, «как хорошо за книгой дома!».
Другое стихотворение Цветаевой дает мне светлую надежду на достойную оценку любому творчеству. В произведении «Моим стихам, написанным так рано» кроются не только тема поэта и поэзии, но и ожидания, и перспективы раскрытия могущественного дара. Как говорил Пушкин, — «глаголом жечь сердца людей». Марина Цветаева верила, что ее стихотворения будут услышаны и прочитаны, даже если поначалу «их никто не брал и не берет!». Стихотворение наполнило меня верой в то, что качественному творчеству «настанет свой черед». Вкус предвкушения, которое Цветаева добавила в произведение, стал так сладок и душист, что и я начинаю мечтать о признании.
Исступленность чувств Марины Цветаевой многим приходится по душе. Обратимся к стихотворению «Тоска по родине». Даже удивительно, что, находясь в эмиграции, лирической героине было будто бы «все равно, где совершенно одинокой быть…», однако весь протест автора разрушают последние строки. Куст рябины как символ родины и искренней любви к ней одерживает верх над всей противоречивостью произведения. Цветаева признается в любви к своей стране иначе, и таким образом попадает в десятку.
Марина Цветаева удивительна тем, как она способна преобразиться в лирике. Сколько преемственности поколений мы встретим в «Бабушке», а сколько своеволия и непреклонности в стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины»! Именно поэтому Цветаеву можно не любить, но уважать ее творчество обязательно нужно.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!
Марина Цветаева
СТАТЬИ, ЭССЕ
ВОЛШЕБСТВО В СТИХАХ БРЮСОВА
Есть поэты - волшебники в каждой строчке. Их души - зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба - принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз - муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.
Доказать волшебство - в лице ли, в голосе ли, в стихах ли оно - невозможно. Заглянуть в чьи-нибудь черты, прочтя какую-нибудь строчку, мы только можем воскликнуть: ах! только взрогнуть от сознания, что волшебство здесь, перед нами. Кто докажет улыбку Джоконды?
Немного раз улыбнулась волшебница-муза на 600 страницах «Путей и перепутий». Но эти улыбки единственны и незабвенны.
Вот стихотворение «Идеал». Уже с первой строчки «Ее он увидел в магический час» - нас охватывает легкая дрожь, первая предвестница волшебства. «Магический час» - мы уже чувствуем, что это час сумерек, странный час после заката. «Был вечер лазурным и запад погас…» Мы входим в сказку. Несложная это сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трех словах: увиделись, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки - и уже волшебство! Нельзя уйти от этого стихотворения, не отметив несколько несказанно глубоких, слишком редких у Брюсова строк:
То был мотылек, пилигрим вечеров,
который подслушал прощанье без слов,
то было смущенное облачко мая…
Какая в них простота, какая проникновенность. Эти строки - почти молитва.
Соединение образов девушки и мотылька не единственно в стихах поэта. Мы встречаем его и в стихотворении «Женщина», где поэт прямо отождествляет девушку с мотыльком.
О девушки, о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий.
Но каждая узнает свой черед…
Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахроме из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:
Альков задрожал золотой бахромой.
Она задернула длинные кисти…
О, да, ей грезился свод голубой
И зеленые листья…
В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.
Все девушки Брюсова - обречены. Что ждет ее, проходящую по бульвару «с опущенным взором, в пелериночке белой», и ту, чьи «прикрыты стыдливо виски», и ту из стихотворения «Весна»? Остановимся на нем. Я так ясно вижу героиню. Ей 15, 16 лет. Она кого-то любит, она ничего не знает о жизни. Все ушли, и вот она стала у окна и чертит «его» инициалы. О чем она думает? Быть может, совсем не о нем. Думает о море, которое знает только по стихам и картинкам, о какой-то будущей боли, о какой-то не нашей весне.
Где-то за морем тогда расцветала весна…
Мне кажется, что волшебство мира заключено в этой строчке, как в выражении «звенящий бал» - вся юность. На что обречены они, юные и нежные героини лучших стихотворений Брюсова? Ответ на это в строчках:
Вот и тайна земных наслаждений,
Но такой ли ее я ждала накануне?
Я дрожу от стыда, я смеюсь…
Вслед за звенящими вальсами - золотая клетка алькова; за мечтой о любви - осуществление ее. Но это не конец. Из глубины плена до нас доходит тихая жалоба, последняя мечта:
И если Бог пошлет мне сон
О недоступном и о счастье,
Мне про любовь не скажет он,
Мне не приснится сладострастье.
И буду вновь ребенком я
Под тихим пологом кроватки,
И сядет рядом мать моя,
Озарена огнем лампадки.
Не все погибло! - Есть воспоминание.
Музыкой юности, вызванной властью воспоминаний, звучат стихотворения «Одиночество» и «Первые встречи». В них оживает убитое жизнью волшебство. Перед нами образ двух сестер, слышавших когда-то первые клятвы поэта; тенистый сад перед нами - сад его юности.
Мы ведь дети, все мы дети, мотыльки вокруг огней!
Много ликов у волшебства. Всех времен оно, всех возрастов и стран. Видеть его лишь в тонких чертах шестнадцатилетних - ошибка. Юность равна волшебству, но волшебство - не только юности. Не юноша и девушка перед нами в стихотворении «Встреча».
О этот крик желанья пленного!
Но уже первые строки заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза:
О эти встречи мимолетные
На гулких улицах столиц!
Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и среди нескольких лиц вдруг одно на миг единственное, - вот оно, волшебство улицы! Кто она, эта незнакомка? Не все ли равно! Из глаз ее глядят неповторимое и тайна.
Улица - самое любимое Брюсовым проявление волшебства. Ее холод лишь для тех, чьи глаза не зажигаются от фонарей и витрин, чье сердце не зажигается с глазами.
Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных столбах…
Β этом стихотворении - все волшебство городской весны. Прочтите его вы, отрицающий музыку в душе и стихах поэта. Прочтите вслух эти строки:
Как тихие звуки клавира
Далекие рокоты дня…
Что может быть ближе к самим звукам клавира, чем эта строка о них?
Слово «клавир» сразу переносит нас в Германию, страну лучших сказок. Ей обязан Брюсов другим своим прекрасным стихотворением:
Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи…
Зеленоватый Рейн с повторенными у берегов башнями старого Кельна и сверкающими вдали парусами; темная зелень виноградников; «песня милой старины…».
О, волшебство старой Германии! О, Heinrich Heine! Мысль о Германии наводит меня на волшебство вагона. Мчится поезд. За окнами ночь. В еле освещенном купе чьи-то зеленые глаза:
И было ль то влиянье
Качания и тьмы,
Но было там влиянье,
В котором никли мы…
И вновь перед нами двое чужих, соединенных на миг волшебством ночи и вагона:
И чьи-то губы близились
Во тьме к другим губам,
И чьи-то губы сблизились, -
Иль снилось это нам?
Снилось ли? Лучше так! Кто знает, какими оказались бы при ровном дневном свете эти зеленые глаза?
Ребенок из интеллигентной профессорской семьи. Марина Цветаева начала свою
литературную деятельность в шестнадцать лет. Влияние матери, талантливой
пианистки, ученицы А.Рубинштейна, сказалось на любви к музыке, природе. Как
говорила сама Цветаева, стихи у нее были тоже от матери, она начала писать их
с шести лет. Свой путь и свою значимость в русской поэзии Марина, тогда еще
совсем молодая девушка, пророчески указала в одном из своих стихотворений.
Цветаева свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» издала сама, в 1910
году, тогда она еще училась в гимназии. В сборник она включила свою лирику,
написанную с пятнадцати до семнадцати лет. Ее стихи с восторгом встретил
Максимилиан Волошин, заметил Валерий Брюсов. «Когда читаешь ее книги,
минутами становится неловко, словно заглянул через полуоткрытое окно в
чужую картину…», — так описывал Брюсов стихи Марины. В них были разговоры
с подругами, с сестрой, матерью, детская непосредственность, виделась в
размышлениях о жизни, смерти, любви.
Марина Цветаева была сложным и талантливым человеком. Держалась она
всегда особняком, как вспоминают ее знакомые, настоящим другом для нее
была сестра Анастасия, Ася. Рано утратив мать, Марина сразу повзрослела и
приобрела предчувствие трагического, пронизывающего ее стихи. После личного
знакомства с Цветаевой с удивительным поэтом и человеком Максом Волошиным
между ними возникает искренняя дружба. Она общается с московскими
символистами, участвует в деятельности издательства «Мусагет». Выступает с
Асей, читая свои стихи в два голоса, дуэтом. В дом приходят известные поэты,
Марина переписывается с В.Розановым.
Через два года после первого Цветаева выпускает второй сборник – «Волшебный
фонарь», а в 1913 году выходит сборник «Из двух книг», в котором собраны
лучшие стихотворения. Оба первых сборника – о доме ее детства, сказочном,
волшебном своем мире. В первых стихах есть и ее юношеское преклонение перед
кумиром – Наполеоном, и в связи с этим – восхищение творчеством Э.Ростана,
написавшем пьесу «Орленок» о сыне Наполеона.
После тех юношеских сборников не напечатали ни одного. Но стихи пишутся
и становятся все отточенней. В Борисоглебском Марина Цветаева живет до
эмиграции. Революция и гражданская война разлучают Цветаеву с мужем: он
белогвардеец, остается за границей. Цветаева воспевает и поэтизирует белую
гвардию в книге стихов 191701921 годов «Лебединый стан», но одинаково
осуждает за кровопролитную войну и белых, и красных.
Поэтесса совершенно неприспособленная к быту, живет в ужасных условиях;
умирает от голода ее вторая дочь, Ирина. Лирика этого периода принизана
ожиданием известий от мужа, скорбью по умершему ребенку.
Марине Ивановне с дочерью Алей удается получить из-за границы весть от
Эфрона и уехать к нему в 1922 году. Вдали от России ее ждут бесконечные
скитания, безденежье, невозможность совместить творчество с заедающим
душу бытом. Но вместе с тем, впереди были и большие поэтические достижения.
Талант Цветаевой вдали от родины обрел мощную силу и зазвучал по-новому.
Ответ оставил Гость
Марина Цветаева. Эффектно и даже вычурно звучит это имя, похожее на псевдоним. Но за цветочным именем - израненная душа, скитающаяся в бесконечности страстей. Везде - не дома, всегда - не богата и, в общем-то, не слишком удачлива. В маркитанском обозе своей неуёмной воительницы судьбы. Поэт Марина Цветаева.. . Именно поэт, слова "поэтесса" она не любила... Как многие поэты, Цветаева охотно верила "знакам судьбы". Полночь, листопад, суббота - она прочитала этот горестный гороскоп легко и отчётливо. Рябина навсегда вошла в её поэзию. Пылающая и горькая, на излёте осени, она стала символом судьбы, тоже горькой, пылающей творчеством и уходящей в зиму забвения. Но уже тогда, в ранней юности, Марина Цветаева догадалась, что её поэзия по духу своему - мятеж, пожар, ракета, что она по сути своей - вперекор всему: и покою сна, и тишине святилищ, и фимиаму славы, и даже пыли забвения. О, она была уверена, что пожар всё равно разгорится, а стихам её "настанет свой черёд". Самое удивительное - это, конечно, её полнейшая уверенность, что сроки исполнятся: настанут дни (хоть через сто лет!) , и её стихи, те самые, что лежат "в пыли по магазинам", нечитанные, немые, погребённые, - они, как засыпанные пеплом угли, вспыхнут, и грозное зарево поэтического мятежа будет видно далеко окрест.
Пророчество сбылось: Цветаева сегодня - один из самых любимых и читаемых поэтов. Она прожила менее полувека, начала серьёзно писать приблизительно в шестнадцать лет и за три десятилетия напряжённого непрерывного труда оставила такое литературное наследие, с которым по масштабу и духовной напряжённости мало что может сравниться. Сотни стихов, пьеса, более десяти поэм, критические статьи, мемуарная проза.. . Ею создан совершенно неповторимый поэтический мир, оригинальный голос её чисто и ясно звучит среди пёстрого многоголосья школ и течений "серебряного века". Её лирика - это непрерывное объяснение в любви по самым различным поводам, любви к миру, выражаемой требовательно, страстно, а иногда и с дерзостью гордого вызова. И это несмотря на то, что в поэзии Цветаевой есть немало упоминаний о бренности всего земного и мыслей о собственном конце.